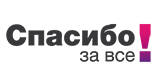Воропаев Александр Николаевич - СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!!!
Из письма «29 июня большая группа «юнкерсов» рано утром бомбила наш городок и аэродром. И так каждый день с 8 утра и до 8 вечера. Городок был разрушен, были жертвы, и мы, кто остался жив, перешли в Брянский лес. В лесах стали нести службу по очищению леса от немецких парашютистов, а после были направлены в город Липецк, в учебный центр переучивания летного состава на самолеты Пе-2. При приближении линии фронта к Липецку мне пришлось воевать на самолетах-ночниках ТБ-3. Это большая тихоходная, с большой бомбовой нагрузкой, тяжелая машина». Вот как описывают бои с участием ТБ-3 участники войны: «Всего через сорок минут после взлёта наше звено ТБ-3 шло почти через штаб фронта. Вот здесь-то штабисты и «полюбовались» плодами своей стратегии. Наших ТБ-3 атаковали всего два «МЕ-190». Корабли загорались, взрывались и в воздухе разлетались в щепки. Выбросившихся членов экипажей на парашютах «Мессеры» в воздухе атаковали и расстреливали. Единственный правый лётчик, Соловьев, совершил очень затяжной прыжок и не дал себя поразить. В штабе фронта Соловьёв проклинал своего командира полка и тех, кто совершил это преступление». В дальнейшем такие приказы давали реже самолёты улетали вечером, с расчетом пройти над линией фронта в сумерки. Уходили в глубокие тылы и бомбили промышленные центры врага, военные заводы, железнодорожные узлы. Вспоминает Александр Воропаев - «на первых порах, пока нас не раскусили, этот неуклюжий по-современному, почти не вооруженный самолет имел успех. Живучесть его была построена на психообмане. Немцы не могли даже предположить, что «русский Ваня», как они нас именовали, удосужится летать на этом тяжелом бревне, где скорость полета при встречном ветре достигала 80 км в час. Да и зенитная артиллерия не была рассчитана даже на такую скорость. Конечно, такой эксперимент долго продолжаться не мог. Впоследствии я был направлен в другую часть и вместе с ней попал в Сибирь. Поехали получать самолеты ЛБ-3 в Иркутскую область, добрались до Байкала, и нас вернули сначала в Нижний Удинск, а потом в Красноярск, где я попал в запасной полк резерва. Здесь я «загорал» до Сталинградских событий, а когда, после Сталинграда, США увеличили нам поставки самолетов Б-25, я был направлен в группу перегонщиков, доставлявших эти самолеты своим ходом из Аляски до Красноярска». И сейчас это серьезная трасса, а тогда, с той техникой на огромном, по тем временам, четырёх моторном бомбардировщике, крайне неуклюжем в условиях оледенения садится на неподготовленные аэродромы было смертельно опасно. Работа по перегонке самолётов приравнивалась к боевой и многие из наших лётчиков на всегда остались в горных хребтах и перевалах Сибири и Дальнего Востока . В конце 1943г. Александр Воропаев снова попал на фронт. Воевал на 1-ом и 4–ом украинских фронтах. Не раз участвовал в боях, терял боевых товарищей. В последнем бою сам едва не погиб. «В апреле 1945г. на кануне победы в небе Чехословакии разгорелись тяжёлые воздушные бои. Причиной тому послужило, то что аэродромы, прикрывавшие Берлин, были полностью блокированы нашей авиацией, и гитлеровское командование, вынужденно было перебросить на Чехословатский театр боевых действий лётчиков прикрывавших воздушную зону Берлина. Это были лётчики-асы, они шли на таран и самопожертвование. 15 апреля 1945г. наша эскадрилья, выполнив боевую задачу, шла на большой высоте домой, в сопровождении небольшой группы «мигов». На пути к линии фронта наш строй был перехвачен большой группой «мессеров». Завязался тяжёлый воздушный бой. Поскольку это происходило в близи линии фронта наше командование подбросило группу «яков», немцы также отправили дополнительную группу «фоккеров». За всю войну я не видел таких воздушных боёв, когда на семи этажах завертелись самолёты, трудно разобрать, где свои, где чужие. Очередь полоснула по мотором нашего самолёта. Моторы закашляли, моторы остановились. Мы стали падать, а до линии фронта было ещё далеко. Садится вблизи линии фронта на территории врага, так насыщенной войсками, малое удовольствие, и мы решили тянуть на свою территорию. Подбитый самолёт наши «ястребки» прикрыли с воздуха, не дав немцем добить нас. Приближалась линия фронта, но катастрофически падала высота. Мы были уверенны что дотянем до линии фронта. Но дело было в другом . Моя штурманская кабина при посадки на брюхо деформируется. Чтобы сохранить жизнь я в любом случае должен был прыгать с парашютом. Делать это в тылу немца я категорически отказался. Всё зависело от судьбы. Правда я сделал всё что было в моих силах: отвязал ремень, сбросил нижний люк, приготовил пистолет. Оставались считанные секунды, земля-смерть. Я попрощался с экипажем, когда земля с бешеной скоростью полетела на кабину». Александра Воропаева спасло то что лётчик рискуя своей жизнью сажал самолёт не на брюхо, как положено, а на крыло. Кабина штурмана раскололась он вылетел и остался жив. Долгое лечение в госпитале, инвалидность (частичная потеря памяти, нарушение речи, одна нога короче другой на 5 сантиметров) и в 1946г. демобилизация. 1952г. Александр Воропаев возвращается в армию, служит в Советском Союзе, затем в ГДР. 6 октября 1958 года авария в воздухе – отказали моторы, под крылом город Берлин, прыгать нельзя – пришлось снова садиться на брюхо. Сильнейшие травмы и опять демобилизация по состоянию здоровья.